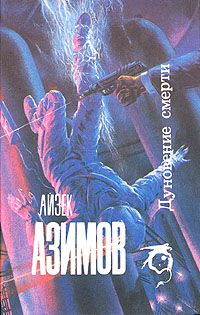— Я спросил только потому, что подумал: вдруг между вами произошло что-нибудь… м-м… неожиданное. Тогда можно было бы объяснить рассеянность Ральфа и понять, почему случилось несчастье. Но поверьте мне, я понимаю, как вы расстроены. Почему бы вам не взять отпуск на неделю или на то время, что вам потребуется? На семинаре мы без вас обойдемся. Я найду, кем вас заменить. А когда самое тяжелое время пройдет…
Роберта покачала головой:
— Спасибо, профессор, но я буду ходить на занятия. Дома мне хуже.
Она поднялась и взяла сумочку под мышку. Подойдя к дверям, она остановилась, чтобы отпереть замок, и тут Брейда осенила новая идея.
— Подождите, Роберта.
Она ждала, не оборачиваясь. Брейд тоже медлил, чувствуя себя дураком и не зная, как лучше спросить.
— Я надеюсь, — сказал он, — вы не рассердитесь, если я задам вам один интимный вопрос?
— Более интимный, чем прежние, профессор?
Брейд откашлялся:
— Может быть. Понимаете, у меня есть на то свои причины. Ну хорошо, дело вот в чем: у вас не было никаких осложнений с профессором Фостером?
Тут она обернулась:
— Осложнений? — Брови ее поднялись, и голос звучал изумленно.
Брейд с отвращением подумал: «А, к черту, надо спросить прямо!»
Он сказал:
— Грубо говоря, профессор Фостер к вам не приставал?
— Какой же это интимный вопрос? — удивилась Роберта. — Профессор Фостер из своих приставаний секрета не делает. Мне тоже выпала эта честь. Всем студенткам приходится пройти через это. Мне досталось не больше, но и не меньше, чем другим. Профессор Фостер так добр, что оделяет своим вниманием всех — щедро и поровну.
— Ральф знал об этом?
Она почти насторожилась:
— Почему вы спрашиваете?
— Потому что, мне кажется, Ральф знал. Правда?
Девушка молчала.
Брейд продолжал:
— Знал, поскольку профессор Фостер не слишком следит за своими высказываниями. («И не всегда ограничивается своими высказываниями, — подумал он. — Уж этот мне «липун» Фостер!») Конечно, Ральфу это не нравилось. Он мог выразить Фостеру свое возмущение.
— Профессора Фостера никто не принимает всерьез, — сказала Роберта сердито. — Иногда он действует на нервы, но это ерунда. Если б хоть одна из нас пошла ему навстречу, он выбросился бы с перепугу из окна.
— Но в том-то и дело, что Ральф принял все всерьез и дал понять это Фостеру.
— Простите, профессор, я должна… мне… мне не по себе.
Она снова повернулась к двери, потом опять оглянулась и спросила неожиданно дрогнувшим голосом:
— Скажите, а записи Ральфа, они вам нужны?
- Пока нужны. А потом я, вероятно, отдам их вам.
Она колебалась, будто собираясь еще что-то сказать, но промолчала. И вышла.
Через пять минут Брейд увидел из окна лаборатории, как она появилась на пороге химического факультета, пересекла кирпичный тротуар, спустилась по мощеной проезжей дороге и пошла мимо университетских зданий.
Итак, она оставила его последний вопрос без ответа, а молчание — знак согласия.
Конечно же! Ральф несомненно был ревнив. Он наверняка отчаянно страшился потерять то, что ему принадлежало. Заигрывания Фостера, лишь досаждавшие другим, его-то должны были привести в ярость. Он вполне мог вспылить, заявить Фостеру в лицо, что он все знает, потребовать оставить Роберту в покое, пригрозить пожаловаться начальству. А для Фостера это смертельная угроза. Начальство может закрывать глаза на его поведение, пока никто не протестует, пока нет шума. Но как только возникнет скандал, дело примет другой оборот. Роковой для Фостера. В конце концов профессору можно каждый вечер напиваться до потери сознания, можно мыться раз в год, можно нести на лекциях тарабарщину, можно быть нестерпимо грубым, невыносимо скучным, внушать отвращение — если он имеет постоянную должность, все это ему простится.
Только два порока ему не спустят, утвержден он в штатах или нет. Первый — нелояльность (сравнительно недавно возведенную в ранг преступлений), а второй столь же древний, как предание о II Абеляре, — моральное разложение. Фостер уже давно балансирует на краю пропасти. Одна жалоба — и он рухнет вниз.
А если такая жалоба предполагалась, может быть, становится понятным и убийство. Ведь это единственный способ избавиться от жалобщика.
Или просто объясняется полученная Ральфом тройка? Но если и допустить, что это вероятный повод к убийству, то как Фостер мог его осуществить? Откуда он мог знать, как Ральф проводит свои опыты? Откуда ему было известно, что в лаборатории приготовлены колбы с ацетатом натрия?
Брейд пожал плечами и взялся за тетради Ральфа. Их было пять — все аккуратно пронумерованные. Брейд наугад открыл первую попавшуюся.
Копии этих записей хранились у него в кабинете, но если Ральф хоть чем-нибудь походил на других аспирантов, прошедших через его руки, на оборотной стороне белых листов в оригиналах должны быть расчеты и замечания, которые могут пригодиться ему, Брейду.
Он перелистывал страницы и удивлялся, как безупречно Ральф вел свои записи. Они были ясными, точными и почти болезненно педантичными. Брейд помнил старые, исписанные неразборчивым почерком тетради Кэпа Энсона, с материалами для его диссертации. Ральф перещеголял в тщательности даже этот идеальный образец.
Ну конечно, порадовался Брейд, эту работу можно продолжить. Ральф так подробно разъясняет свой метод, будто предназначает записи для читателя, обладающего лишь зачатками элементарных знаний. («Может, он был обо мне именно такого мнения», — виновато подумал Брейд.)
Ну что ж! Будем последовательны! Примемся за дело без отлагательств.
Он открыл тетрадь номер один. Первые записи в ней делались, когда Ральф занимался у Ранке. Брейд помнил эти тетради, он просматривал их полтора года назад, когда согласился стать руководителем Ральфа.
Но теперь, зная юношу лучше, он был удивлен тем, как мало сказывался неустойчивый характер Ральфа на его работе. Все записи были совершенно объективны.
Правда, Брейду встречались пометки такого рода: «Профессор Ранке считает неубедительным то-то» или «Профессор Ранке указывает на непоследовательность того-то». Но ни одна запись не носила следов раздражения, все они отличались бесстрастной сдержанностью. Даже разрыву с Ранке посвящалась только одна фраза: «Сегодня в последний раз работал под руководством профессора Ранке».
Следующая страница начиналась с записи, сделанной месяцем позже. «Сегодня первый день занятий с профессором Брейдом». Остальные страницы были Брейду знакомы. Первое время, начав заниматься у него, Ральф вручал ему желтые копии каждую неделю и исписывал целые страницы примечаниями. Позже он стал приносить свои записи от случая к случаю, объяснения становились все более отрывочными, а потом и вовсе прекратились. Может быть, Ральфа расхолаживала неспособность Брейда принять до конца его теорию? Может быть, потому Ральф и ненавидел Брейда? (Хотя Чарли Эммит утверждает, что он его боялся.)
![Айзек Азимов - Дуновение смерти [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/95615/95615.jpg)